5
Пометки на каждой странице
5
Замкнутый круг посткапитализма
Вся жизнь полна созерцания тоталитарной пропаганды против личности, против Я. Хотя, конечно, можно мнить себя «свободным». Душно.
«Мир я сравнил бы с шахматной доской:
То день, то ночь. А пешки?—мы с тобой. Подвигают, притиснут, — и побили;
И в тёмный ящик сунут на покой. Омар Хайям.
«Общество спектакля» (La Société du spectacle) — это основное произведение Ги Эрнеста Дебора (Guy-Ernest Debord; 1931–1994), французского теоретика искусства, художника-авангардиста, социального философа и писателя. Книга написана Ги Дебором в 1967 году и вскоре после выхода в свет принесла автору широкую известность в европейских интеллектуальных кругах.
Книга «Общество спектакля» посвящена анализу современного капиталистического общества западного типа с леворадикальных позиций. По словам самого Ги Дебора, это произведение стало «выражением наиболее радикальной позиции» в момент социально-политического кризиса во Франции в мае 1968 года, который привёл в конечном счёте к смене правительства, отставке президента Шарля де Голля, и значительным изменениям во французском обществе: «даже последние простофили того времени смогли наконец-то понять то, что же означало «отрицание жизни, ставшее видимым», «утрата качества», связанная с формой-товаром, или же пролетаризация мира». Впоследствии Ги Дебор, который не был активным участником этих событий, написал, что «общество спектакля превратило восстание против себя в спектакль».
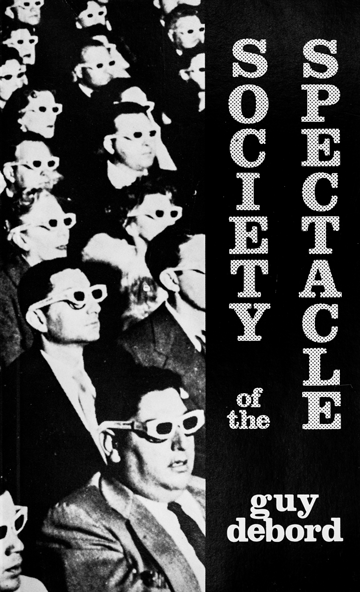
Ги Эрнест Дебор: Общество спектакля (). Обложка первого издания книги.
Одним из источников вдохновения для Ги Дебора выступала «Диалектика Просвещения» М. Хоркхаймера и Т. Адорно, постулировавших тотальность культуриндустрии в современном обществе, а также показавших, что «развлечение становится пролонгацией труда в условиях позднего капитализма», а «искусство есть лишь разновидность товара, сделанного, поставляемого, приравненного к индустриальной продукции, продающегося и заменимого», или же Das Passagen-Werk В. Беньямина, задавшего современный ракурс интерпретации феномена Modernity — реальность (и наиболее характерная особенность) последнего состоит в потреблении зрелища (иллюзий) взамен или наряду с материальными благами. Не менее важна в этом контексте и концепция Д. Лукача: именно из разработанной им оппозиции становления и ставшего, овеществляющего отчуждения и праксиса вытекает предложенная Ги Дебором интерпретация «спектакля».
С помощью понятия «спектакль» Ги Дебор объясняет целый ряд современных культурных и идеологических феноменов: специфику современных индустриальных обществ развитых стран, проблему глобализации (в самом широком смысле), порочность репрезентации, доминанту визуальности в современной культуре, и многое другое. За основу определения «спектакля» можно взять тезис 34: «Спектакль есть капитал на той стадии накопления, когда он становится образом», причём «капитал» перестаёт быть «невидимым центром, управляющим способом производства»: всё протяжение общества — это его портрет. Спектакль, по мысли Ги Дебора, — это идеология универсально значимая, и в качестве таковой, несмотря на впечатление тотальной абсолютной видимости, он оказывается дискурсом непрозрачным и эллиптическим: «помимо того, что является собственно секретным, очевидно, зрелищный дискурс замалчивает всё, что ему не подходит». Не удивительно, что любые спонтанные (то есть свободные, не «срежиссированные») действия и мнения представителей общества спектаклю не подходят: «власть спектакля достаточно часто возмущается, когда замечает, как под её покровительством формируется некий спектакль-политика, спектакль-юстиция, спектакль-медицина, или множество подобных непредвиденных «издержек масс-медиа».
Термин «спектакль» в интерпретации Ги Дебора содержит в себе совокупность разнообразных (и не всегда вычитываемых) коннотаций, например:
- пассивность (субъектов-зрителей);
- визуальный характер поздней капиталистической экономики;
- постановочность действий (власти);
- условность (социальных конвенций), которая носит в театральном спектакле гораздо более выраженный характер, нежели в кино — в театре она осознаваема и блокирует полную идентификацию, тем самым «разделение» сохраняет свою силу.
Ги Дебор наделяет «общество спектакля» следующими характеристиками:
- Вся жизнь обществ, в которых господствуют современные условия производства, проявляется как необъятное нагромождение спектаклей.
- Спектакль — это не совокупность образов, но общественное отношение между людьми, опосредованное образами.
- Спектакль нельзя понимать ни как злоупотребление неким миром визуальности, ни как продукт массированного распространения образов. Это объективировавшееся видение мира.
- Анализируя спектакль, мы в какой-то мере говорим самим языком спектакля, тем самым переходя на методологическую территорию того общества, которое выражает себя в спектакле.
- Общество, базирующееся на современной индустрии, не является зрелищным случайно или поверхностно — в самой своей основе оно является зрительским. В спектакле, этом образе доминирующей экономики, цель есть ничто, развитие — всё. Спектакль не стремится ни к чему иному, кроме себя самого. Таким образом, спектакль есть «основное производство современного общества». Он есть не что иное, как экономика, развивающаяся ради себя самой.
Характерно, что Ги Дебор выстраивает свою концепцию спектакля как завуалированную критику «окуляцентризма» европейской философии, поскольку спектакль, как тенденция предъявлять мир, который уже не схватывается непосредственно, через различные специализированные опосредования, полагает зрение привилегированным человеческим чувством, каковым в прежние эпохи было осязание. Ги Дебор объявляет спектакль наследником всей слабости западного философского проекта, представлявшего собой понимание деятельности, в котором первенство принадлежало категориям видения.
Та критика, которую Ги Дебор адресует буржуазному обществу, ещё более подчёркнута по отношению к обществу, построенному в духе квазиреволюционных идеалов и породившему примитивный спектакль тоталитарного бюрократического общества: по мнению Ги Дебора, пролетариат всегда был лишь коллективным зрителем затевавшейся якобы ради его блага революции. Так, присвоение «голосов» рабочего класса небольшой группой «репрезентантов» их мнения создало, по мысли Ги Дебора, величайшую историческую иллюзию, фиктивный мир «государства рабочих и крестьян». Схожим образом западная революция 1968 года, в преддверии которой была написана эта книга, также завершилась «интегрированной театрализацией», о чём Ги Дебор пишет в многочисленных «Комментариях» к различным переизданиям «Общества спектакля». Впрочем, согласно тезису 23, потенциальная угроза спектакуляризации существовала всегда — ибо власть нигде и никогда никого, кроме самой себя, не репрезентировала, хотя, казалось бы, требование репрезентативности лежит в основании всей политической системы общества. В действительности цель любой политической системы состоит в фальсификации общественной жизни. Поэтому демократия есть, прежде всего, видимость демократии. Спектакль (как зрелище) и власть (не только в буржуазном государстве) — взаимополагающие категории, поскольку оба являются продуктами «древнейшей общественной специализации», заключающейся в том, чтобы говорить от имени других.
Таким образом, допуская множественные интерпретации «видимого мира» позднего капиталистического общества, Ги Дебор не оставляет никаких иллюзий относительно его эстетизированной поверхности. Не то чтобы Ги Дебор демонизировал видение как таковое, однако критикуя тот способ, которым западное общество научилось манипулировать видением и злоупотреблять им, автор оказывается очень близок к другому французскому мыслителю — М. Фуко, считавшему, что современный человек живёт не в обществе спектакля, но в обществе надзора, и что люди находятся не в амфитеатре и не на сцене (местах органичного существования спектакля), но в паноптической машине, где «глаз власти» управляет миром и ими. В то же время Ги Дебор лишает наблюдателя его привилегированного положения: и его (наблюдателя) терзает мания подглядывания, в «обществе спектакля» и он может в любую минуту оказаться под прицелом чужого взгляда, он сам подвергается опасности «объективирования» или «овеществления» — посредством превращения в образ.
LA SOCIÉTÉ DU SPECTACLE
COMMENTAIRES SUR LA SOCIÉTÉ DU SPECTACLE
PRÉFACE À LA QUATRIÈME ÉDITION ITALIENNE DE LA SOCIÉTÉ DU SPECTACLE
Предисловие к 4-му итальянскому изданию
Переводы этой книги, впервые изданной в Париже в конце 1967 года, появились уже в десятке стран. Чаще всего в одной стране конкурирующие издательства выпускали в свет сразу несколько переводов, – как правило, все они были плохими. Первые переводы, где бы они ни появлялись, были неточными и неправильными, за исключением Португалии и, может быть, Дании. Переводы на голландский и немецкий удались со второй попытки, хотя немецкий издатель и на этот раз пренебрег корректурой множества ошибок. Англичанам и испанцам нужно ждать третьего перевода, чтобы узнать, что я в действительности написал. Однако худшее ожидало нас в Италии, где в 1968 году издательство De Donato выпустило в свет самый безобразный перевод из всех существующих; впоследствии он был лишь частично улучшен двумя другими конкурирующими издательствами. Впрочем, Паоло Сальвадори недолго думая разыскал виновников этого произвола в их кабинетах и задал им жару, в буквальном смысле плюнул им в лицо: ибо так ведут себя хорошие переводчики при встрече с плохими. Достаточно сказать, что четвертый итальянский перевод, сделанный Сальвадори, оказался блестящим.
Крайняя несостоятельность стольких переводов, которые, за исключением четырех-пяти лучших, мною не контролировались, вовсе не доказывает того, что эта книга более сложна для понимания, чем какая-либо другая, которую и писать на самом деле не стоило. Вдобавок нельзя сказать, что такая участь чаще всего постигает произведения подрывного характера, потому что в этом конкретном случае фальсификаторам, по крайней мере, не грозит судебный иск со стороны автора; а также потому, что привнесенный в текст идиотизм не вызовет особых попыток опровержения у идеологов буржуазии и бюрократии. Нельзя не заметить, что за последние годы большинство переводов, где бы они ни появлялись и даже если речь идет о классиках, скроены на один манер. Наемный интеллектуальный труд обычно стремится следовать закону промышленного производства периода упадка, по которому доход предпринимателя напрямую зависит от скорости производства и от низкого качества используемого материала. Это производство с гордостью освободилось от всякой заботы о вкусе публики с тех пор, как, сконцентрировав капитал и наращивая технические мощности, оно удерживает монополию на не обеспеченное качеством предложение на всем рыночном пространстве, и со все большей наглостью спекулирует на вынужденном подчиненном положении спроса и потере вкуса, этой немедленной реакции у основной массы потребителей. Идет ли речь о квартире, говядине или о продукции невежественного переводчика, неизбежно напрашивается мысль о том, что теперь очень быстро и с гораздо меньшими затратами можно получить то, на что раньше потребовались бы долгие часы квалифицированного труда. А у переводчиков и вправду немного оснований корпеть над книгами, вдумываясь в их смысл, а перед этим – изучать их язык, поскольку почти все современные авторы и сами с очевидной поспешностью пишут книги, которые очень быстро выйдут из моды. Зачем же переводить то, чего не стоило писать и что никто не прочтет? Именно с этой стороны своей специфической гармонии система спектакля безупречна, в остальном она терпит крах.
Однако эта столь привычная практика большинства издателей не годится для такой книги, как «Общество спектакля», интересующей иную публику и служащей иным целям. Существуют, сейчас это ясно как никогда, книги разного рода. Многие из них даже не открывают, и лишь очень немногие цитируют на стенах. Эти последние обязаны своей популярностью и силой убеждения тому, что презираемые спектаклем инстанции о них не говорят или говорят скупо, между прочим. Индивиды, которым предстоит разыгрывать собственную жизнь по правилам, предписанным историческими силами, на службе у которых они состоят, конечно же, захотят изучить документы в безупречно точном переводе. Несомненно, в условиях нынешнего перепроизводства и сверхконцентрированного распространения книжной продукции большинство произведений может иметь успех, а чаще неуспех, лишь в первые несколько недель после выхода в свет. Именно на этом средний представитель современного издательского дела строит и проводит в жизнь свою поспешную политику произвола, вполне годящуюся для книг, о которых что-то, причем не важно что, скажут лишь однажды. В данном случае этому издателю явно не удастся воспользоваться подобной привилегией: бессмысленно наспех переводить мою книгу, поскольку другие возобновят попытку и хорошие переводы придут на смену плохим.
Французский журналист, тот, что недавно выпустил огромный труд с целью возобновить идейный спор, несколькими месяцами позже объяснял свое фиаско не столько дефицитом идей, сколько нехваткой читателей. Так, он заявил, что мы живем в нечитающем обществе; что если бы Маркс сегодня опубликовал свой «Капитал», ему пришлось бы прийти на телевидение, чтобы разъяснить свои намерения в вечерней литературной программе, а на следующий день о нем никто бы не вспомнил. Это забавное заблуждение хорошо отражает круг, его породивший. Естественно, если сегодня кто-то опубликует книгу, посвященную подлинной социальной критике, то он никогда не пойдет на телевидение и на любые беседы подобного рода; так что о его книге будут говорить и через десять, и через двадцать лет.
Сказать по правде, я думаю, что на свете нет никого, кто бы заинтересовался моей книгой, за исключением врагов существующего общественного строя и тех, кто действует в соответствии со своими убеждениями. Моя подкрепленная теорией уверенность на этот счет подтверждена эмпирическими наблюдениями за редкой критикой или аллюзиями, которые моя книга вызывает у тех, кто удерживает или всего-навсего силится обрести полномочия публично выступать в спектакле, говорить перед другими, хранящими молчание. Все эти специалисты по иллюзорным дискуссиям, которые мы все еще ошибочно называем культурологическими и политическими, выстроили свою логику и культуру на логике той системы, которая может их ангажировать; не только оттого, что они были ею избраны, но в основном потому, что они от начала и до конца сформированы этой системой. Среди цитировавших эту книгу, признавая ее важность, мне до сих пор не встречался никто, кто рискнул бы сказать, хотя бы в самой общей форме, о чем, собственно, идет речь: им нужно было лишь создать впечатление, что они в курсе дела. В то же время казалось, будто все, кто обнаружил в ней какой-то недостаток, им одним и ограничились, ибо ни о чем другом они не говорили. Всякий раз отдельного недостатка вполне хватало, чтобы удовлетворить нашедшего. Один упрекнул книгу в том, что в ней не затронуты проблемы государства; другой в том, что она не считается с историей; третий отверг ее как иррациональный, неслыханный панегирик чистому разрушению; четвертый заклеймил ее как тайное руководство всех правительств, образовавшихся со времени ее появления. Остальные пятьдесят незамедлительно пришли к диковинным выводам, равно свидетельствующим о сне разума. Где бы они ни писали об этом: в периодике, в книгах, в сочиненных по случаю памфлетах, – везде, за неимением лучшего, звучал все тот же тон капризного бессилия. А на заводах Италии, напротив, книга, насколько мне известно, нашла благодарных читателей. Рабочие Италии, которые сегодня могут подать пример своим товарищам во всех странах – своими неявками на работу, яростными забастовками, которых не смягчить отдельными уступками, – своим осознанным отказом от работы, презрением к закону и ко всем государственным партиям, – достаточно хорошо ознакомились с содержанием «Общества спектакля» на практике, чтобы извлечь пользу из тезисов книги, прочитанной пусть даже в посредственном переводе.
Почему по всему миру растет правый популизм, призывающий бороться с «мировым социализмом»? Правда ли, что этичное потребление — это лишь обман крупных корпораций, а курьеры умирают на рабочих местах? С XX века механизмы скрытого контроля за жизнью человека настолько изменились, что культурная и политическая верхушка неолиберального капитализма стала определять, что хорошо и что плохо, управлять жизнью, смертью и бунтом людей, не слезая со своих велосипедов. Можно ли представить конец капитализма так, чтобы не зашла речь о конце света?
- Ложь твоего босса
- Только тогда, когда этих мер недостаточно, система вынуждена переходить к открытому подавлению и насилию и превращать прогрессивные движения в отростки неолиберальной политики.
- Конец спектакля
- Правящий класс по объективным причинам теряет возможность и дальше использовать коммуникативные сети как инструмент.
Ложь твоего босса
Что такое идеология? Множество теоретиков определяли ее по-разному — от условного «ложного сознания» до открытой системы структурообразующих взглядов, характерной для обществ модерна и больших нарративов. Такая система стремится всё на свете объяснить и подогнать под универсальные социально-политические действия. Чтобы утвердить социальные нормы и порядки, она использует формы открытого принуждения: расстрелы, тюрьмы, паноптиконы, страх.

Культурная парадигма изменилась, и это дало нам совершенно новые формы контроля. В постмодерне социальные нормы и порядки, не тождественные их реальному выражению, утверждаются с помощью скрытого принуждения.
Социолог Карл Маннгейм выделял две формы идеологии, исторически перетекающие одна в другую:
- частичная идеология — осознанная ложь или ее неосознанная легитимация;
- тотальная идеология — идеология большого нарратива, социальной общности, то, как она проявляется в отношении субъектов.
Чтобы идеология угнетенных перешла в идеологию угнетателя, необходимо осознать ее внутренние противоречия и конфликты. Утопия становится идеологией, когда угнетенные захватывают идеологические аппараты государства, ставя под сомнение всё мировоззрение угнетателя.
Словенский философ Славой Жижек так определил одну из особенностей постидеологичной политики: современная одномерная реальность опаснее, чем 50–60 лет назад, потому что формы идеологического контроля из открытых стали скрытыми.
Это своеобразный парадокс постмодернистского босса: до середины XX века недовольство начальниками и диктаторами легко было оправдать тем, что отношения власти и подчинения были явными и соблюдались через нормативную систему. Постмодернистский же начальник мимикрирует под друга и приятеля, правитель государства всеобщего благосостояния может добираться до работы на метро или велосипеде. Однако отношения власти и подчинения никуда не делись: босс остается боссом, а правитель — правителем, только теперь обыватель думает, что он сам принимает решение, подчиниться или нет.
Об этом говорят и Джозеф Хиз и Эндрю Поттер в книге «Бунт на продажу: как контркультура создает новую культуру потребления», излагая теорию культурной кооптации.
Согласно этой теории система вначале пытается всего лишь ассимилировать сопротивление масс: она присваивает его символы, выхолащивает «революционное» содержание, а затем возвращает их массам в виде обычного товара. Иначе говоря, система стремится нейтрализовать контркультуру, давая людям столько суррогата, что они начинают игнорировать революционную суть новых идей.
Только тогда, когда этих мер недостаточно, система вынуждена переходить к открытому подавлению и насилию и превращать прогрессивные движения в отростки неолиберальной политики.
Чем принципиально отличается товар «контркультурных брендов» от суррогата конкурентов, учитывая, что эти товары точно так же производятся в азиатских «потогонках»? Для капиталистической системы идеи «справедливого рынка» не только не радикальны, но даже не затрагивают основ эксплуатации и отчуждения, хотя и формируют «прогрессивный миф». Товары, сделанные счастливыми и «совсем не эксплуатируемыми» работниками, как и упование на «этичное потребление», позволяет заглушить радикальный протестный потенциал. Такую модель бизнеса можно увидеть у крупнейших компаний: Toms Shoes, Pepsi, Apple, Google.
Конец спектакля
Предтечами анализа постидеологии были ситуационисты. Самыми известными из них были бельгийский философ Рауль Ванейгем и французский революционер и философ Ги Дебор; сюда относится и игровая концепция повседневности американского социолога Ирвинга Гофмана. Самая известная книга Дебора — «Общество спектакля». В ней он выносит приговор обществу современного ему капитализма, называя его обществом «спектакля», симулякром:
«Спектакль конструирует модель преобладающего в обществе образа жизни. Он является повсеместным утверждением выбора, который уже осуществился в производстве».
Спектакль выступает как симулякр потребления, он создает особую реальность, которая требует постоянного участия субъекта. Всё, что находится за рамками производственной цепи, подчиняется потреблению, спектаклю, который определяет за субъекта, что ему выгодно в тот или иной момент:
«Истоком спектакля является утрата единства мира. И гигантская экспансия современного спектакля выражает полноту этой утраты: абстрагирование всякого частного труда и всеобщее абстрагирование совместного производства прекрасно передаются в спектакле, чей конкретный способ существования как раз и является абстрагированием. В спектакле одна часть мира представляет себя перед всем миром и является высшей по отношению к нему».
Дебор сводит спектакль к тотальности, которая отнимает у человека его самодостаточность и выступает как Большой Другой, на которого можно перекладывать свои страхи, неврозы и потребительские решения. Потребление выходит за рамки рационального и переходит в товарный фетишизм и парарелигию с их собственными культами — брендами и местами поклонения — моллами и торговыми центрами.
В такой ситуации дискредитируется экспертное знание, возникает тотальное недоверие или, наоборот, доверие формальным рыночным механизмам и статистике. У человека в спектакле атрофирована свобода воли, ведь в него включены и прошлое, и настоящее, и будущее. Рациональное изгоняется, и происходит радикальная потеря смысла — ведь иначе смысл может навредить гегемону спектакля, потому что изначально находится вне его. А значит, меняется даже понимание рационального: оно маргинализируется и эстетизируется.
Но то положение вещей, которое ситуационисты называли обществом спектакля, изменилось: маятник двинулся в обратную сторону. Состояние постмодерна возникло в том числе и потому, что культуру стало возможно сделать массовой как никогда благодаря технологиям передачи и распространения информации. Общество спектакля теперь не просто вынесено за рациональные рамки сознания человека, но сконструировано так, как это нужно правящему классу.
В наше время технология передачи информации стала еще более развитой. Невероятное количество сетей формирует людей, они получают информацию из многих источников и задействованы в этих сетях и социальных связях. Конструировать индивида стало сложнее. Все подобные попытки (политические передачи, пропаганда и т. ) проваливаются: даже на уровне обыденного сознания очевидно, что эта обработка общественного мнения по сравнению с множеством других источников является лукавством и устарела. Остается система, которая конструирует саму себя, — капиталистическая.
Это одновременно и победа общества спектакля (оно стало по-настоящему тотальным), и его поражение: правящий класс теряет инструменты намеренного конструирования общественного мнения. Индивид теперь так же, как и они, конструируется безликим капитализмом.
Ситуация постидеологии — это ситуация, когда технология передачи информации является чем-то большим, чем просто инструментом власти. Акторы сетей больше не могут ни конструировать ими индивидов, ни предугадывать поведение в рамках этих сетей — для этого их слишком много.
Правящий класс по объективным причинам теряет возможность и дальше использовать коммуникативные сети как инструмент.
Теперь это не спектакль, а автоматон.









